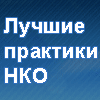Иван Жданов: "Шила в Москве не утаишь",
ШИЛА В МОСКВЕ НЕ УТАИШЬ
("Алтайская правда", 1 ноября 1994 г.,
"Молодежь Алтая", 11 ноября 1994 г.)
- Иван, почему ты не задержался в Барнауле после окончания филологического факультета Барнаульского педагогического института?
- Я не смог найти себе работу. В школе, как оказалось, я не могу работать, потому что просто не рожден для этого, что выяснилось на двух педагогических практиках. Компания более - пяти человек меня уже дестабилизирует. Я теряюсь в этом. А уж тем более с детьми, с подростками - тут, действительно, надо иметь определённые педагогические способности, чтобы этим заниматься. Это во-первых.
Во-вторых. Если не в школу, то мне надо было идти работать в газету. В этом я тоже... не очень хотел участвовать, не ощущал в себе профессиональной уверенности что ли... Я не смог бы писать по заданию редактора, например.
То есть, ни школа, ни газета - ничто меня не устраивало. К тому же меня не покидало чувство, что в Барнауле я - временно. Я чувствовал, что должен вернуться в Москву, где начинал учебу на журналистском факультете МГУ. Должен вернуться в литературную среду, чтобы в ней и доучиваться, и общаться. Если жизнь представлять вообще, то, с сегодняшней точки зрения, можно было бы и не уезжать... Но возраст у меня тогда был такой - нужно было принимать достаточно серьезное решение.
- Как у тебя шли дела с первыми публикациями?
- Я на них никогда не надеялся. Ни в Барнауле, ни в Москве. Я рано понял, что мои стихи не могут быть напечатаны.
Вот случай. После московского совещания литераторов, в 1978 году, мои стихи в альманахе "Поэзия" опубликовал Николай Старшинов. И когда принесли этот номер редактору по поэзии в "Литературной газете", то он, увидев мои стихи, сказал: "Ну, это все непечатка!" Ему: "Как же - вот ведь напечатано?" А он: "А, все равно это непечатка". То есть, "непечатха" - это то, что не должно проходить в печать.
- Как ты переживал такое отношение к себе?
- Спокойно вроде... У меня был какой-то смутный замысел в перспективу: до 30 лет вообще ни о чем не стоит беспокоиться относительно публикаций, изданий. А там, думал, видно будет - после 30-ти. Пока же, думал, буду просто заниматься своим делом, и все.
А тогда в Москве все интересные явления обязательно обнаруживались. Тогда и поговорка такая появилась: шила в Москве не утаишь. Поэтому стихи, которые отпечатывались на машинках, расходились по Москве и дальше какими-то кругами. Этого было достаточно авторам, чтобы иметь общение друг с другом, иметь представление о том, что делается вокруг. Если говорить, что литературный процесс - это то, что было напечатано типографским способом, то это неверное представление. Литературный процесс во многом развивался тогда как самиздат. Еще был тамиздат - это, когда за границей что-то где-то опубликуют. За это приходилось соответственно отвечать, и очень серьезно, то есть сразу же попадал "под колпак" известных органов. Мои стихи в те годы как-то опубликовали в каком-то эмигрантском журнале, а я узнал об этом через несколько лет. Да и никто не узнал об этом тогда, потому что журналов было много.
- Скажи, пожалуйста, как ты определяешь для себя уже упомянутый тобой литературный процесс?
- Продолжить мысль?.. Это само в природе строится и достигает нужного качества. Например, самиздат по качеству был выше официального издания. В самиздате ведь выживали только те, кто мог сам выжить, кто мог стать литературной фигурой. А в официальной литературе могло быть всякое - само качество было на подозрении, то есть оно не было ведущей категорией.
- Помимо рукописных и машинописных вариантов у тебя все же были в Барнауле и газетные публикации...
- Да что это... В многотиражке завода "Трансмаш", в институтской многотиражке "Учитель"... Публикации подобного рода были тогда у многих самиздатовских фигур - и в Барнауле, и в Москве. Но это лишь следующая за стенгазетой категория. Поэтому считать это публикацией - не совсем серьезно. Вообще, газеты для этого не очень подходящее место, если, конечно, это не специальные газеты.
Я своей первой публикацией считаю публикацию в альманахе "Поэзия", 1979 год. Потом - в "Дне поэзии", в "Литературной учебе", и так далее. А потом для меня самого неожиданно вышла книжка.
- Вот о ее судьбе расскажи, пожалуйста.
- Она вышла в издательстве "Современник"... С чего начать рассказывать? Ну вот. Редактор того отдела, где моя рукопись лежала, прочитав мои стихи, сказал всем: "Эти стихи могут быть изданы только через мой труп!"... Так и получилось - через год его уволили по каким-то там, не знаю, причинам. Слетели тогда со своих мест и главный редактор, и заведующие отделами, и директор... А потом в отдел, где лежала моя рукопись (смеется), пришел новый человек и стал восстанавливать порушенный план издательского производства. А это же производство, и довольно сложное, - издательское дело-то. И нашел он мою рукопись с двумя положительными рецензиями и рекомендацией к изданию от литературного совещания. Пригласил меня в редакцию. И стали мы работать над рукописью. Он все напирал на то, что мои стихи малопонятны. Я как автор должен был в течение 1-2 минут объяснить ему трудные стихи. Если мне это удавалось, то стихотворение оставалось, если нет - выбрасывалось из рукописи... Я стал разговаривать с ним с позиции силы (смеется), потому что я был уверен - такая книга не выйдет, а значит - зачем мне его слушать... Мы никак не могли договориться. Он мне предложил принести еще стихи, А я говорю (смеется): "Да у меня больше и нет". Он говорит: "Как так!?" "Да вот, - отвечаю, - я живу так - как придется и где придется, поэтому у меня никакого архива нет, а есть только то, что в голове - много переносить на бумагу, значить решать проблему - где хранить, а мне и самому-то жить негде".
Так что ситуация с возможным изданием зашла в тупик. А я, честно говоря, даже и рад был - меньше мороки. А через месяц вдруг получаю приглашение: прийти в издательство "для продолжения работы над рукописью"... или "над книгой" там было написано - в телеграмме той, не помню. Ну ладно. Я прихожу. А редактор мой говорит: "Ваша рукопись вся пойдет". И на моих глазах резинкой стирает все свои пометки. Я удивился. Подумал, что он меня разыгрывает. И все.
Вот так и вышла моя первая книжка в 1981-м году - "Портрет". Может быть, в этом были какие-то моменты провидения?.. Я перед этим на совещание московских литераторов попал случайно - не по официальному приглашению или направлению. Кирилл Ковальджи мне сказал: "А ты приходи просто как гость. Я и. пришел посмотреть - что такое совещание. Мне это любопытно было. Тем более меня с работы отпустили - я отпросился. А работал я тогда в Подмосковье в системе книголюбов, или в обществе книголюбов... Ну вот, я и пошел. Бояться-то мне нечего было, так как я был уверен, что меня никогда не напечатают. Но обсудился я хорошо - хорошо о моих стихах говорили. Дали путевку с этого московского совещания на Всесоюзное - здесь же, в Москве, оно проходило. Это весна 1979-го. И тут мне нечего было "ловить", потому что зам. редактора "Вопросы литературы" Осетров хотел из меня "котлету" сделать. Неожиданно за меня заступился Давид Кугультинов. Он сказал, что "мы тут открываем нового классика (Жданов смеется), которого надо немедленно печатать". Осетров все же попытался меня "свалить". Говорил, что вот, мол, у Жданова такая судьба интересная - много в жизни повидал: и на заводе работал, и в Якутии работал..., а биографии-то в стихах нет, а я-то думал, что Жданов знает только дорогу от рояля до книжной полки. Я тогда ответил, что есть биография послужная, которая для этого мира, а есть другая - для другого мира. Короче говоря, меня после этого совещания и опубликовали в "Дне поэзии", в "Литературной учебе" и так далее. То есть все это было странное стечение обстоятельств. Этого не должно было быть, но это произошло.
- И "Портрета" тоже не должно было быть?
- ...Я даже когда выписал для себя двести экземпляров "Портрета" и взял эти пачки в руки, то не верил в это. Столько лет не верил, что, когда все это случилось, не мог никак поверить. Но это уже не моего ума дело: получилось, значит так надо было. Помню, книжка эта вышла, а Костров все говорил тогда: что, мол, зря говорят, будто у нас, не печатают поэтов экспериментального плана, которые все ищут чего-то, мы же, вон, напечатали Жданова. То есть для них это уже отмазка была, отчет перед Западом. Да у них всегда была оправдательная позиция... Известно ведь, что, когда к нам приезжает какой-нибудь западный гость - тут же улицы метут, асфальт - новый кладут и прочее. Для чего - мне не понятно. Вот и при Ельцине: перед приездом Клинтона наводился такой порядок! - на тех улицах, где он должен был проезжать. Это у нас инстинкт какой-то. Только по одному этому понятно - кто у нас сейчас стоит у власти. Да все те же в общем-то. Ну ладно, это уже другая область разговора...
- А как же тогда быть с выражением: поэт в России больше чем поэт?
- Да брось ты... Это же смешно. Если на то пошло, то в России каждый должен быть больше самого себя: каменщик - больше, чем каменщик, шофер - больше, чем шофер и т д. Если один считает, что это только он - больше чем поэт, а другой - нет, то отсюда начинается уже не литература, а политика. В литературе при таких передергиваниях вряд ли найдешь нужную устойчивость. А политикой пусть занимаются те люди, которые имеют к этому способности. Нашей стране в этом пока не очень-то везет.
- Иван, ты обмолвился о необходимости пребывать в литературной среде. Была ли она в те времена в Барнауле?
- Мне повезло в том, что филологи нашего педагогического института были гораздо сильнее, чем журфака МГУ. Почему? Потому что здесь, в Барнауле, работали молодые преподаватели, которые, окончив столичные университеты, не имели нужных связей, чтобы остаться в столице. Из-за такого стечения обстоятельств у нас было много умных преподавателей. И это было здорово, потому что было с кем поговорить. Хотя были, конечно, и кондовые среди них. Вот случай расскажу.
В аудиторию, где нам читалась лекция о творчестве Фета, вошел наш декан. А лектор как раз говорил о том, что Фет увлекался какое-то время Шопенгауэром. Это, действительно, факт. И Лев Толстой увлекался. Так вот, декан возмутился: "Да что вы тут такое говорите! Да такого быть не может у нашего замечательного русского поэта! Чтобы он Шопенгауэром увлекался, который чуть ли не Ницше!.. Что вы тут говорите этим молодым людям?!"
Помню разборки по Солженицыну, когда его, в 1974-ом, из страны выдворили. У нас на эту тему, как и везде, прошли собрания. Но студенты-то народ языкастый. Спрашивать стали: "А почему же его читать нельзя? Допустим, он не прав. Но нам надо прочитать и самим решить: в чем и почему".
- Не боялись?
- А чего бояться? Кого бояться? В Сибири живем (смеется). Куда дальше-то ссылать? А чтобы в тюрьму упрятать, надо было очень сильно прикалываться. Да и нелепо было бы - сажать. Мы же к тому времени только пережили что? - роспуск лагерей Хрущевым. Не возвращать же сталинские времена репрессий и лагерей! Да их уже и не было - лагерей. Не создавать же новые.
- Как ты относишься к возвращению Солженицына?
- Я вообще к нему хорошо отношусь. Может быть, он подзапоздал с возвращением. А то, что он сейчас активен в социальных и других вопросах, так он сам сказал, что ему есть, что сказать, и что в литературе он достаточно поработал. Думаю, он много и во многом еще сделает.
- Расскажи о своих литературных пристрастиях. Что читаешь?
- Все читаю. И перечитываю. Вот сейчас предложили составить и написать предисловие к собранию сочинений Булгакова. Это будет карманного формата издание. Первым - роман "Мастер и Маргарита". Пришлось всего Булгакова перечитать. До этого Чехова перечитывал, Шукшина... А настольной книги у меня нет. Ты, Валера, видел мою библиотеку. Вот все эти книги и есть мои настольные книги. Бродского читаю. Он мне интересен еще и как представитель того поколения, после которого мое поколение непосредственно следует. Отсюда и соответственная эстетическая реакция. При всем уважении к нему, есть принципы отталкивания. То же и с Вознесенским - отталкивание. Например, у него "носы горят как стоп-сигналы". Это понятно. Но характер имеет поверхностный, так как надо находить более глубокую связь между стоп-сигналами и носами, чтобы не получилось просто перемигивания.
- Чем занимается поэт Иван Жданов?
- Я свободный художник. Постоянной работы нет. Ни в каких редколлегиях я не состою. Делаю временные работы. Вот сейчас Булгакова составляю. Может, заработаю что-то? А так... Читаю, хожу по выставкам... Приглашают на выступления на семинары, фестивали: в Керчи, в Смоленске, в Барнауле побывал. За границей бываю. В апреле этого года приглашали на фестиваль российско-американский - поэтический. Это проходило в Стивенсонском институте. Выступали там пять дней со стихами и лекциями наши и американцы.
- Когда выйдет твоя новая книга?
-... От меня сейчас все ждут новой рукописи. Торопят даже. Вот и ты, Валера, говоришь: "Давай рукопись". Но я не машина. При таком спросе, какой сейчас на меня есть, я, наверное, должен писать даже больше, чем Дюма (смеется). А я пишу мало, медленно. Долго взвешиваю слово, строчку. "К этому меня приучила моя кочевая жизнь в самом начале - хранить рукописи и работать над ними мне было негде и некогда. Это выработалось в привычку: делать свое дело так, чтобы сделанное было дорого мне самому, по крайней мере. Но я не один в таком положении - сейчас многие пишут так.
- Мало и медленно? В чем причина?
- В том, что возросла концентрация стиха. Она стала более мощной. И явление это не только в нашей стране, а везде... На этот вопрос в - двух словах не ответишь. Может быть, дело в том, что переносится акцент собственной личности на собственное бытие. Сейчас художник как бы перестает быть хозяином своего произведения - он становится проводником...
Вот поэты серебряного века были, например, достаточно биографичны. Для них собственное бытие имело абсолют. И на этот счет у них не было сомнений. Они могли сокрушаться, переживать что-то трагически, но абсолют этот был для них несомненен.. А в наше время были каким-то образом так поставлены условия, что бытие стало нуждаться в каком-то глубоком оправдании. То есть, человек должен уйти в то, что предшествовало этому бытию, в более такие планы, как бессознательное, мифологическое и так далее. Почему? Потому что в этом есть некая устойчивость - мировая устойчивость. А текущее существование человека очень неустойчивое. Если сейчас писать об этом так, как писали раньше, то ничего кроме глухого стона не услышишь. А стон - это тоже явление неустойчивости.
- Что поэт должен передавать, если, как ты говоришь, он должен быть проводником?
- Что передавать?.. Что Бог велит, то и должен передавать. Тут все то, что и во все времена.
- Скажи, кто твои друзья?..
- Если иметь в виду чисто эстетический план, то с друзьями-то не так все просто... Я с Еременко, Арабовым, Парщиковым, Кибировым нахожусь вполне в дружеских отношениях.
- Часто, если не сказать - постоянно, называли такую троицу: Жданов, Еременко, Парщиков. Дай, пожалуйста, характеристику этой связке?
- Да я думаю, что нас уже не называют "в связке". Время прошло. Да и разные мы. А почему называли?.. Так получилось, что нас почти одновременно стали печатать, иногда вместе, тем самым словно отгородили нас от других: вот, мол, это у нас экспериментаторы, а это - нормальные. Можно сказать, что объединение нас в начале 80-х годов было случайным. Хотя житейски мы были знакомы действительно. И с Еременко, и с Парщиковым я был знаком еще тогда, когда учился в Барнауле на филфаке, а они в Москве в Литературном институте. Мы переписывались. Это года с 75-го. Потом встретились. Стали общаться, выступать вместе.
- Вас объединяли. А вы сами были как-то объединены творчески? Был ли у вас союз, клуб, ассоциация, манифест?..
- Да нет. Ничего подобного не было. Тут дело, скорее, в том, что мы трое отметали устоявшееся понятие "лирический герой". Еременко делал маску такого героя - чудаковатого, дебиловатого... Парщиков залезал в дебри трансматериального смысла, или что-то в этом роде, то есть у него такой взгляд на вещи, при котором автор словно и не является Альфой и Омегой...
- Иван, в своем авторском альманахе "Август" я издал тебя и Александра Еременко. Думаю, что не только мне, но и другим читателям интересна твоя характеристика творчества Еременко.
- ... Поэты, которые пытались продолжить традицию "лирического героя", неизбежно приходили к тому, что их поэзия становилась все более рефлексирующей даже на слабое раздражение. Например, не нравятся тебе... эти дома. Ты можешь об этом написать. Но в этом не будет главного - концепции всемирности, где ты не потерян, не заброшен. У меня должен быть Бог. Бог - это конкретная категория. И вот если она есть, то ее можно даже не замечать. Это становится стабильным, естественным, прозрачным. И в этом случае ты раздвигаешь перед собой все нелепые ширмы и т. п.
Еременко на своего лирического героя одевает маску, а сам отходит чуть в сторону или сзади. Разительное отличие его творчества в том, что у него видно глубоко трагическое существо. И вот эта сила натяжения - между маской и трагической сердцевиной - выделяет его из того ряда, в котором стоят сатирики и фельетонисты. То есть, оказывается, все у него не так смешно. Смеются и хохочут по причине разных сдвигов, смещений, центонных завитушек. Но суть у Еременко сводится вовсе не к этому и не для этого.
- А если читатели видят только поверхностное - только то, что смешно, а трагизма не замечают?..
- Это уже не должно заботить автора. Он не может за всех отвечать. Есть люди, которые все понимают. Есть люди, которые не хотят это понимать, например, люди старшего поколения, привыкшие к каким-то другим мерам, нормам, обычаям и т. д. Что же касается нашего поколения, то тут восприятие адекватное, нормальное. Надевая на своего героя маску и отходя в сторону, Еременко все же остается еще и как бы в своем герое. Таким образом, речь идет о душе, а не о какой-то хохме. В этом случае Еременко близок с Есениным, Высоцким.
- Еременко включает в свои стихотворения чужие строки...
- Дело в том, что современное создание человека мифологизировано - оно состоит из штампов. А Еременко просто пытается эти штампы вывернуть особым образом, чтобы показать именно человеческую душу, раздернув все шоры и всю косность.
- Понятно - Еременко так устроен, у него свой метод, - прием, задача и т. д. А как устроен Иван Жданов?
- Иначе. Но первичная реакция у нас одна. Одна и та же. Вот почему нас и объединяли.
- Несколько слов, пожалуйста, об "устройстве" Иосифа Бродского?
- В целом он из тех могикан, которые придерживаются лирического героя. А эта установка неизбежно приводит к тому, что... Ну как если бы человек оказался в раю, то там он все равно нашел бы такое, что лучше бы этого рая совсем не было, либо его называли как-то по-другому. Вот - несколько слов. Надеюсь, я говорю понятно.
- Иван, скажи, пожалуйста, о своем отношении к выражению: поэт - это судьба.
- ... Вот как раз поэтому, - если он - судьба, нужно идти глубже, чем человек. А ведь поэт такой же человек - такая же песчинка в этом пространстве. Но он должен найти в себе что-то такое, чтобы быть устойчивым, а не быть образцом чего-то размытого в непонятном пространстве, в котором неизвестно что происходит.
- У тебя есть награды, призы, звания?
- Я лауреат премии Андрея Белого. Это независимая литературная премия. Ее удостаивались Андрей Битов, Алексей Парщиков, Ольга Седакова... Я получил ее в Питере в 1983 году. Выглядит это так. На столе полный стакан водки, на нем яблоко, а рядом запечатанный конверт, в котором... бумажный рубль. И все. Вот так.
Валерий ТИХОНОВ.
Официальный сайт казино Вавада предлагает широкий выбор азартных игр, включая слоты, настольные игры и игры с живыми дилерами. Регистрация на сайте проста и быстра, требуя от пользователей минимум информации для создания аккаунта. После регистрации игроки получают доступ к личному кабинету, где могут управлять своими финансами, участвовать в акциях и получать бонусы. Вавада обеспечивает высокий уровень безопасности данных и транзакций, используя современные технологии шифрования, что делает игровой процесс не только увлекательным, но и безопасным.